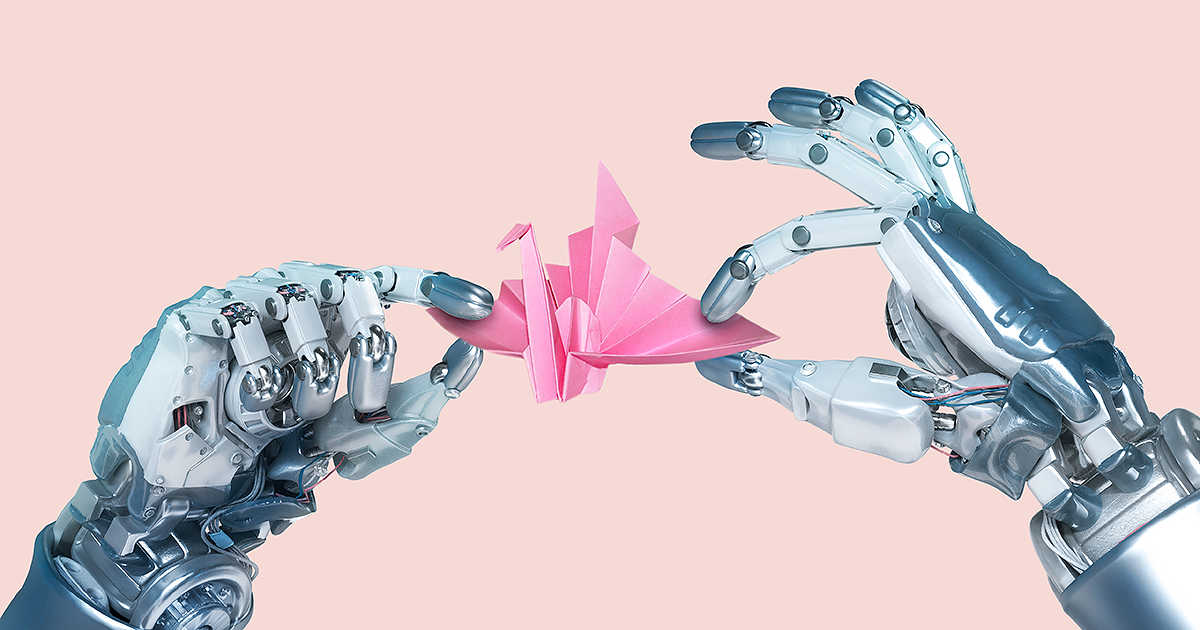Мы с Костей [Богомоловым] работаем вместе почти два года. Я начала со спектакля «Волшебная гора» в Электротеатре Станиславский, потом были «Три сестры» в МХТ, оратория «Триумф времени и бесчувствия» в театре им. Станиславского и Немировича-Данченко и спектакль «Ай фак. Трагедия» по Пелевину, который шел на альтернативной театральной площадке в башне «Меркурий» Москва-Сити.
Когда меня спрашивают: «Чем ты занимаешься?» — отвечаю, что я — междисциплинарный художник. Кому-то этого достаточно, кто-то требует разъяснений — и тогда я рассказываю длинную историю. Я окончила университет по специальности инженер-конструктор одежды во Владивостоке; при этом, еще учась в школе, начала работать журналистом — писала музыкальные рецензии для сайта ночного клуба, газет «Антенна» и «Комсомольская правда». В 22 стала главным редактором местного мужского глянцевого журнала «ОбломOff» — мы с командой единомышленников делали «владивостокский Esquire». Например, у нас тоже была рубрика «Чтиво» — и мы первыми напечатали в «ОбломOff» отрывок из книги Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». Иногда я думаю, что, останься я во Владивостоке, статусно моя жизнь могла бы сложиться лучше. Но я уехала в Москву — поработала журналистом в желтой прессе, разочаровалась в профессии и попала на Первый канал, в Дирекцию документального кино.
Мне казалось, что моего навыка работы с селебритис и того, что я могу разговорить практически любого человека, будет достаточно для того, чтобы делать фильмы-портреты об известных артистах. Начав этим заниматься, я поняла, что о драматургии в кино я не знаю ничего, а мои знания в журналистике здесь не подходят. Ну, например, мне дают задание: нужно продемонстрировать дружность, общность семьи, но при этом запрещено использовать банальные приемы — показывать, как они вместе сидят за одним столом и пьют чай или смотрят фотоальбом на диване, запрещено показывать циферблат домашних часов как символ времени. А я должна снять людей дома. Что придумать? Я в такие моменты зависала, долго думала и чаще всего придумывала какую-то лажу — та семья у меня в итоге играла в настольную игру. При этом со мной рядом работала коллега, которая в кинодраматургии разбиралась отлично и на уровне визуальных образов могла показать что угодно. Вот от героя ее фильма ушла жена. Как показать на экране его одиночество? Снять, как он застегивает рубашку — и у него отрывается пуговица. Все.
С диктофоном я могла достать из человека любые откровения, с камерой и человеком, который за этой камерой стоит, — не могла. Переписывала один сценарий по 24 раза. Промучилась там восемь месяцев и ушла — поняла, что мне нужно (и интересно!) научиться снимать документальное кино. Мне казалось, что у меня есть какой-то коричневый пояс по карате, а нужен черный. Я уволилась и поступила в Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. С моим мастером, Мариной Разбежкиной, у нас, к сожалению, не возникло ни взаимного интереса, ни любви, ни симпатии друг к другу. Я не попала в пул десяти избранных студентов, с которыми Марина работала лично — курировала их съемки, помогала. Для меня, человека, любящего привлекать внимание, экспрессию, это была трагедия.
Меня спас второй мастер Школы, Михаил Угаров — драматург, художественный руководитель Театра.doc и руководитель мастерской документального театра.
Работа с ним стала для меня в какой-то степени терапией — в то время мой муж начал мне изменять. Обычно в такой ситуации люди ходят на психологические группы, а я ходила на занятия к Угарову и там рассказывала обо всем, что переживаю. Сидела, говорила о том, как боролась с любовницей мужа, и рыдала, а все хохотали. Угаров тогда сказал мне очень важное: «Надя, ты о самых трагических вещах, даже о собственной боли умеешь рассказывать так, что все смеются».
Мы учились не только режиссировать свои фильмы, но и снимать. Нам нужно было преодолеть страх — снять свои курсовые работы не на телефон, а на настоящую камеру, иногда даже не спрашивая героев. Вот видишь, например, как женщина продает яблоки у метро, она тебе нравится, ты хочешь рассказать ее историю. И ты должна ее снять не из-под полы, а открыто, и объяснить кому угодно — ей, полиции, самой себе — что ты снимаешь кино. Вот так у меня впервые появилась камера.
Первое, что я поняла — что разговаривают люди не с камерой и не с диктофоном, а с тобой. Второе — с камерой проще: она тебя прячет, ставит в «позицию ноль». Ты становишься не участником ситуации, а наблюдателем. Это очень важное качество для режиссера документальных фильмов
Я не оператор в классическом понимании этого слова. У меня за плечами нет ВГИКа или Университета кино и телевидения в Питере. Выпускники этих вузов — профессионалы, мастера светотени, они знают, что такое правильный ракурс, как выстроить экспозицию. Я только начинаю в этом разбираться — когда много снимаешь, постепенно начинаешь видеть — но мне по-прежнему больше интересна драматургия. Главное — показать в одном кадре, что происходит: отношения героя с миром, с самим собой. Кажется, у меня это получается, и я безумно люблю это делать. Я тащусь от того, что могу держать в руках камеру и наблюдать через нее за чужой жизнью или работой актеров.
«Мне сразу рассказали правила поведения на репетиции: к Богомолову подходить нельзя»
С Богомоловым мы познакомились случайно. Моего уже бывшего мужа Пашу, кинооператора с академическим образованием, пригласили в Электротеатр Станиславский работать в спектакле Константина Богомолова «Волшебная гора». Он три месяца ходил на репетиции, увидел, как Костя работает «этюдным методом»: постепенно выбрасывает все ненужное. В первоначальной версии спектакля было десять актеров и текст Томаса Манна. В той, что увидели зрители, от Манна осталась только общая атмосфера больницы, где происходит действие. Актриса Елена Морозова первые 40 минут спектакля только кашляет и читает стихи о природе, а потом вместе с Богомоловым разыгрывает короткие эпизоды по текстам режиссера.
Паша был главным «зарабатывателем» в нашей семье, поэтому, когда его пригласили снимать сериал для телевидения, он предложил мне пойти работать к Богомолову вместо него. Я сказала: «Так я же не смогу, я не оператор». Таких людей, как я, называют режоперами — то есть вроде как и оператор, и режиссер, а по факту не умеет профессионально делать ни ту, ни другую работу. Я, например, до театра работала только с натуральным светом, ручной камерой и героями тет-а-тет. Короче, было страшно, но я все равно пошла. Мне сразу рассказали правила поведения на репетиции: к Косте подходить нельзя, к главному художнику-постановщику Ларисе Ломакиной — тоже. Ничего не спрашивай, не предлагай, сиди, жди, пока тебя вызовут. В перерывах все молча утыкаются в телефоны. А до премьеры три дня.
Я подумала: блин. У меня есть шанс пообщаться с крутым режиссером. Встала и пошла к Богомолову — задавать вопросы. Все в ужасе: Надя, куда?!
А я: «Лариса, Костя, здравствуйте, а что мы снимаем?» Они говорят: «Мы пока в поиске визуальных решений». Оказалось, что меня зря пугали: Костя оказался очень контактным человеком, которому нужен фидбэк. Я предлагала разные варианты съемки, он комментировал. Предложила сделать арку: начать и закончить спектакль одинаковым кадром — показать маленького человека в огромной коробке, где он существует.
Меня поддержала Лариса. А Костя, помню, стоял и сомневался. В этом своем фирменном пальто в клетку с большим воротником: «Ну, не знаю, мне надо подумать».
Я почему-то в секунду «считала», что так можно, подбежала — человека вижу второй раз в жизни! — схватила его за воротник пальто и начала трясти: «Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста».
Он смотрит на мои руки, все остальные, молча, — на нас: сейчас что-то будет. А он вдруг сказал: «Ладно, я подумаю». Так я сократила дистанцию, поняла, что с ним можно и нужно разговаривать, и у нас возник контакт, который сохраняется до сих пор, уже почти два года.
Я рассказала Косте и Ларисе, что могу быть навязчивой, громкой, говорить невпопад, поэтому, если что-то пойдет не так, мне надо говорить: «Так, Надя, стоп. Мы сейчас не готовы к этому вопросу».
«Я предложила Косте сделать „плохую съемку“ — как в Instagram»
У каждого из спектаклей — свое визуальное решение и своя задача оператора. Например, «Волшебную гору», спектакль-перформанс, я вывожу на экраны в расфокусе. Для Богомолова «Волшебная гора» стала экспериментом — до этого он больше был известен масштабными развлекательными постановками, такими как «Идеальный муж», «Карамазовы» и «Мушкетеры. Сага. Часть первая». А тут зритель пришел с условным попкорном — и увидел кашляющую актрису, мутное изображение. Они что там, снимать не умеют?
Но дело в том, что это визуальное решение показывает то, что автор только ставит вопросы, но не дает на них ответов. Однажды после одной из первых постановок ко мне подошла зрительница и сказала: «Я знаю, почему вы все снимаете именно в расфокусе. Ведь Константин, читающий монолог о том, как убил свою возлюбленную, — это же лермонтовский „Демон“ и „Демон сидящий“ Врубеля». И рассказывает мне о смыслах, которых не вкладывали в постановку ни я, ни Костя. Собственные ответы.
Экраны в спектаклях Богомолова — это часть декораций. В «Трех сестрах», которые идут в МХТ, изображение выводится не на цифровой экран, а проецируется на огромные растянутые тенты — для того чтобы укрупнить эмоции, которые в данный момент переживают актеры. Например, они сидят к залу в профиль, а я снимаю их анфас — зрителям не нужно смотреть в бинокль, чтобы увидеть эмоции Софьи Эрнст, Маруси Фоминой или Саши Ребенок.
Благодаря съемке режиссер может развести мизансцену как угодно. Как в реальности или в кино, а не как в театре: например, в «Трех сестрах» есть эпизод, где актер Дмитрий Куличков стоит спиной к залу и говорит очень важный монолог. А благодаря проекции все зрители видят его лицо
В поставке «Триумф времени и бесчувствия» (по оратории Георга Фридриха Генделя, либретто к сценической версии написал Владимир Сорокин. — Прим. Salt Mag) у нас было два больших экрана, которые нужно было наполнить контентом, отличающимся от того, что происходит на сцене: например, показать женщину-бодибилдершу с мужским телом в то же самое время, как солисты, одетые в женскую одежду, поют свои партии. Мы импровизировали все вместе — с Богомоловым, Ломакиной и видеохудожником «Гоголь-центра» Ильей Шагаловым: что-то снимали на камеру, что-то — на айфон; пропускали изображение через фильтры; использовали видео из интернета.
Самым «кровавым» спектаклем для меня оказался «Ай фак. Трагедия» по Пелевину — мы готовили его в очень сжатые сроки, за неделю. Пелевин написал о далеком будущем, в нем российское современное искусство — Pussy Riot, Павленский — стало дорогим антиквариатом. Главная героиня — искусствовед Маруха Чо (Дарья Мороз) — занимается исследованием искусства образца начала XXI века и берет себе в помощники искусственный интеллект — Порфирия Петровича (Игорь Миркурбанов).
Для постановки нам дали целый этаж в башне «Меркурий» — там поставили три трибуны для зрителей, три сцены, на которых играли два актера, и перед каждой трибуной был экран. Из-за авральных сроков подготовки было много технических сложностей: видеосигнал на этом этаже передавался по вай-фаю, он то и дело падал, камера «терялась», все это было очень нервно. Зато мне дали полную свободу действий!
Помню, предложила Косте идею сделать зумирование — не плавное, а грубое, как в Instagram или в фильмах Ларса фон Триера. Плохая съемка как выразительное средство. Я снимала, как хотела: нагнетала атмосферу дрожанием камеры под музыку Рихарда Штрауса из фильма «Космическая одиссея 2001»; визуализировала приближение опасности тем, что снимала актера издалека — он шел на меня в черном плаще, в какой-то момент приближаясь и заполняя собой все пространство, превращаясь в огромную черную дыру.
«Эта работа — по большой любви»
Мне нравится, что мое визуальное чутье совпадает с чутьем Кости и Ларисы — мне не нужно объяснять, почему я, например, в один из моментов хочу снять и показать бетонную стену, а не актера.
Непонимание, конечно, тоже случается. Однажды на подготовке к «Ай факу» я что-то очень громко сказала во время репетиции, акустика хорошая, слышно было всем, нервы у всех на пределе, и Богомолов на меня наорал: «Надя, что ты все время болтаешь!» Я разрыдалась. Мне было важно, что потом Костя извинился. Такое бывает — иногда репетиции заканчиваются почти ночью. Иногда у меня есть 20 минут, чтобы добежать из МХТ после четырехчасовой репетиции «Трех сестер» в театр им. Станиславского и Немировича-Данченко на репетицию уже оратории «Триумф времени и бесчувствия». Это тяжело физически: оператор часами стоит за камерой без возможности присесть, после этого болит все тело.
А еще в российском театре платят очень маленькие деньги, гонораров за репетиции и спектакли мне не хватает даже для того, чтобы снимать в Москве квартиру, от которой до работы не нужно ехать два часа. Такая работа прекрасна для женщины, у которой есть мужчина, который в свою очередь ее финансово страхует
Недавно я рассталась с мужем, поняла, что мне надо как-то выживать. И пришла к тому, что опять идти в наемную работу редактором, сидеть с чужими текстами после работы в театре я не хочу и уже не смогу — потому что нет мотивации. И потому, что работа с Костей [Богомоловым] приносит мне огромное удовольствие. Даже отсутствие денег меня не пугает.
Однажды мы с бывшим мужем Пашей сняли игровое кино — «Лео и Ураган», и его отобрали для того, чтобы представлять Россию на Международном кинофестивале стран бывшего Советского Союза в Грузии. Кому-то из нас нужно было ехать в Батуми.
Решили, что поедет он, но новость о том, что Паши какое-то время не будет на репетиции «Трех сестер» и «Триумфа времени и бесчувствия», Богомолову рассказала я. Я не спрашивала разрешения, а поставила его перед фактом: «Костя, ты же сам художник и понимаешь, как для нас это важно. Мы хотим развиваться как творческие единицы». Он сказал: «Я все понял». Вечером мне в панике позвонила продюсер и сказала, что Богомолов написал пост в фейсбуке: мол, требуются новые операторы, старые не справились.
До утра я и еще не уехавший никуда Паша ждали смску: «Не приходите». Не дождавшись, на следующий день пошли в МХТ как на казнь. Боялись, что нас с позором развернут прямо на проходной
Или мы войдем — а в репетиционном зале за камерами уже стоят другие люди. Мне писали коллеги из тусовки: «Надя, а что, правда, что у Богомолова место освободилось? Или вы завтра помиритесь? Ты только свистни!» В итоге все обошлось: меня не уволили, а Пашу заменил один из студентов Костиной режиссерской мастерской, который был на всех репетициях.
Короче, конфликты случаются, но это всегда рабочие моменты. Например, на следующий день после конфликта на «Ай факе» Богомолов пришел на репетицию и стал очень громко объяснять сцену — как Даша Мороз должна разговаривать со своим партнером. Сказал: «Вот ты на него смотришь — а он истерик, пинает землю, топает ногами, орет, не умеет держать себя в руках, — тут вся команда спектакля начала ржать, потому что поняли, что вообще-то режиссер нам сейчас рассказывает о самом себе. — Нелепый, но, с_ка, талантливый же. За это ведь все можно простить?» Да, можно.
Это все по большой любви — к его таланту. Мне все время хочется написать Богомолову: люблю, люблю, люблю, не могу. Иногда не выдерживаю и пишу. Понимаю, что так обожать людей нельзя — они от этого сбегают, но, кажется, только так и должно быть.